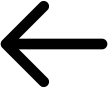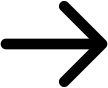Банкротство как инструмент в корпоративныx конфликтаx: возможно или нет?

Банкротные инструменты могут показаться привлекательными в затяжном или остром корпоративном конфликте, когда ставки высоки, а в ход идут любые приемы, которые могут дать результат. Банкротство в теории дает возможность получить контроль над активами, отстранить «невыгодного» гендиректора, привлечь бывшего партнера, а сейчас оппонента, к субсидиарной ответственности. Но можно ли назвать такое поведение допустимым, и как к нему относятся суды? В статье – Марии Федоровой, юриста ЮК «Бубликов и партнеры».
Какие бывают корпоративные конфликты, и чем они опасны
Корпоративный конфликт — это спор об управлении организацией между ее участниками или руководителями, который может помешать работе фирмы или привести к полной или частичной потере контроля над ней. Такой конфликт всегда подразумевает столкновение интересов, ценностей, целей как внутри, так и вне компании. Например, участники компании поспорили о размере своих долей и том, насколько они отражают реальный вклад в бизнес. Или один из них разочаровался в методах управления другого. Кроме того, в результате бракоразводного процесса или смерти учредителя в компанию могут прийти новые люди, с которыми не всегда получается договориться.
Если участники имеют поровну голосов (классическая ситуация – 50% на 50%), то их противоборство может привести к дедлоку1. Так в судебной практике называют корпоративный конфликт, который парализует работу организации. В ситуации дедлока невозможно принять решение по вопросам управления компанией.
Корпоративные конфликты губительны для бизнеса, ведь они нарушают отлаженный процесс управления компанией. Того, кто одержал верх, могут ждать не лавры победителя, но и убытки, нестабильность, иногда – полный крах бизнеса. Поэтому корпоративных конфликтов важно не допускать. Для этого в учредительных документах предусматривают систему сдержек и противовесов.
А если конфликт уже идет, то важно вовремя его разрешить. Есть много способов это сделать. Так, Пленум Верховного суда РФ перечислил такие меры:
1) исключение участника юридического лица;2) его добровольный выход;
3) избрание нового единоличного исполнительного органа;
4) ликвидация компании – в случае, если иные меры уже исчерпаны или невозможны2.
Институт банкротства в разрешении корпоративных конфликтов
Этот вопрос возник неслучайно. Несмотря на то, что банкротство длительное, не всегда управляемое и предсказуемое, на практике его порой используют участники корпоративных конфликтов — например, инициируют банкротство оппонента, чтобы получить доступ к его активам. Но Верховный суд занимает категоричную позицию: использовать банкротство в корпоративных конфликтах нельзя. Так ВС высказался в одном из дел. Это был, казалось бы, обычный кейс: кредитор обратился в суд с заявлением о банкротстве организации. Однако суды нижестоящих инстанций отказали во введении процедуры наблюдения, прекратив производство по делу.
Они выявили, что с помощью банкротства заявитель пытается помешать другому участнику получить действительную стоимость доли. Суды увидели в действиях кредитора признаки злоупотребления правом с учетом того, что в обществе разгорелся корпоративный конфликт3. Верховный суд согласился, что такое поведение недопустимо.
Впоследствии суды нижестоящих инстанций начали применять подобный подход не только в вопросах возбуждения дела о банкротстве, но и в других категориях споров. Например, в оспаривании сделок. На одном из судебных заседаний в Пермском крае представитель должника заявил об использовании процедуры банкротства с целью преодолеть истечение срока исковой давности по общегражданским правилам оспаривания сделок. Как пояснил представитель, единственным способом обжалования сделки является процедура банкротства.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал подобное поведение недопустимым. В тексте своего постановления суд даже привел выдержку из аудиозаписи протокола судебного заседания с пояснениями юриста должника.
Рассматривая позиции судов, нельзя не упомянуть заслуживающее внимания недавнее дело, дошедшее до Арбитражного суда Центрального округа4.
Суд первой инстанции прекратил производство по делу о банкротстве общества на стадии проверки обоснованности заявления кредитора о банкротстве. Суд установил, что в обществе-должнике есть корпоративный конфликт, и сослался на вышеупомянутое решение Верховного суда. Апелляция поддержала этот подход.
А вот округ отменил эти судебные акты, вернув дело на новое рассмотрение.
По его мнению, внимания и судебного контроля требует не факт корпоративного конфликта сам по себе, а злоупотребление правом, в том числе попытки разрешить корпоративный конфликт специальными банкротными инструментами.
В этом деле суды не проводили проверку заявления кредитора на соответствие требованиям статей 33, 48, 63 Закона о банкротстве и не обосновали вывод о злоупотреблении правом со стороны кредитора-заявителя. Кроме того, суды оставили без внимания утверждения участника должника о том, что кредитор-заявитель не был участником корпоративного конфликта и не участвовал в судебных разбирательствах по этому поводу.
Помимо этого, суд округа пришел к очень интересному выводу: процедура наблюдения здесь могла бы помочь разрешить корпоративную неопределенность в части невозможности выбора руководителя общества. Например, с использованием механизма из статьи 69 Закона о банкротстве («Отстранение руководителя должника от должности»). Разумеется, суд должен увидеть основания ввести наблюдение по общим правилам (статья 48 Закона о банкротстве) и проверить, кроме прочего, и довод об аффилированной заявителя должнику.
Субсидиарная ответственность в разрешении корпоративного конфликта
Институт субсидиарной ответственности тоже не помощник в корпоративных конфликтах. Это следует из позиции Верховного суда. Требование о привлечении к субсидиарной ответственности в материально-правовом смысле должно защищать исключительно независимых от должника кредиторов, напомнил ВС5.
Он указал на это в деле ООО «Егорье», где заявители сами были причастны к управлению должником, то есть не имели статуса независимых кредиторов. Это лишило их возможности требовать привлечения других лиц к субсидиарной ответственности. «Предъявление подобного иска по существу может быть расценено как попытка компенсировать последствия неудачных действий по вхождению в капитал должника и инвестированию в его бизнес», — говорится в определении Верховного суда.
Если истцы полагали, что ответчики, их партнеры, вели себя в общем бизнесе неразумно или недобросовестно, то можно было использовать средства защиты из корпоративного, а не банкротного законодательства. Например, предъявить требования о взыскании убытков, исключении из общества, оспорить сделки по корпоративным основаниям и проч.
Впоследствии это дело вошло в обзор судебной практики Верховного суда за 2020 год6.
Еще ряд разъяснений ВС дал в 2022 году в деле о несостоятельности ООО «Центр-Савек»7. Там у должника было два кредитора: налоговая и физлицо-единственный участник, который и подал заявление о банкротстве. В реестр были включены его требования по выплате дивидендов.
В этом деле конкурсный управляющий потребовал привлечь гендиректора компании к субсидиарной ответственности по обязательствам должника за непередачу документации. Участник компании-кредитор поддержал это заявление.
Но суд апелляционной инстанции, а следом и Верховный суд, отклонили требования, отметив, что участник-кредитор злоупотребляет правом. Они расценили его поведение как попытку одержать верх в корпоративном конфликте. Ведь заявитель имел непосредственное отношение к управлению должником, а его требование к должнику проистекает из внутрикорпоративных отношений (выплата дивидендов).
Помимо этого, Верховный суд увидел признаки недобросовестности и в самом инициировании дела о банкротстве. Ведь единственным кредитором с суммой требований свыше 300 000 руб. был бывший участник должника на основании решения о выплате себе дивидендов, о которых генеральный директор не знал при покупке компании.
Как указал суд, «дело о банкротстве не может быть возбуждено, а новые участники должника не могут быть привлечены к субсидиарной ответственности на основании требований бывших участников о выплате себе дивидендов».
-
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.11.2020 № Ф04-3638/2020 по делу № А45-33350/2019, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11.06.2020 № Ф04-1528/2020 по делу № А75-11144/2019
-
П. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
-
Определение Верховного Суда РФ от 05.02.2021 № 305-ЭС20-22816(1,2) по делу
№ А40-27690/2020 -
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 29.02.2024 № Ф10-13/2024 по делу № А35-5358/2023
-
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 28.09.2020 № 310-ЭС20-7837 по делу № А23-6235/2015
-
«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2020)»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020) -
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 07.04.2022 № 305-ЭС21-25552 по делу № А40-41691/2019
Читайте также:
Поделиться в соцсетях:
Cackle